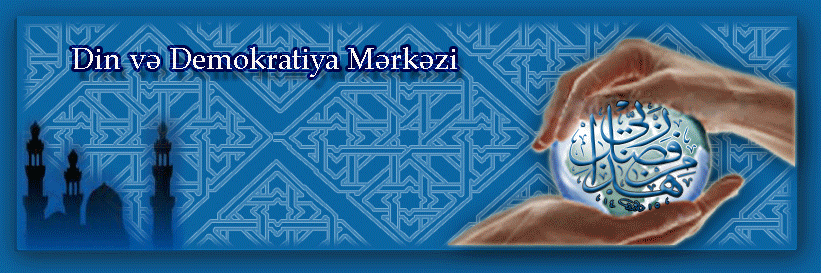
|
| Франц
РОУЗЕНТАЛ Американский востоковед |
|
ТОРЖЕСТВО ЗНАНИЯ |
|
| (Отрывок
из монографии)
В исламе концепция
знания приобрела значительность, которой нет равных в других цивилизациях.
Я полагаю, что предшествующие страницы подтведили доминируюущую
позицию знания среди всех аспектов мусульманской интеллектуальной,
духовной и общественной жизни. «Знание», конечно, торжествовало
среди образованных классов, а они задавали тон остальным. Признано,
что широкие народные массы не могли не испытать влияния того поклонения
знанию, которое выражали их руководители. Некоторую помощь в этом отношении может оказать популярная литература с ее гарантированной массовой привлекательностью. На самом деле мировоззрение этой литературы определяет не ее массовая аудитория – оно представляет собой отстоявшуюся и упрощенную версию тех немногих, кто составлял интеллектуальную элиту данной эпохи. Однако это истинная мера народных чувств. К сожалению, случилось так, что лишь очень небольшую часть средневековой литературы мусульманских народов можно считать именно народной по типу. К этой категории относятся, например, «завоевательные романы». При помощи вымышленных исторических примеров они фиксируют истинные воззрения борца за дело ислама. Он изображается готовым умирать за свою веру (иман) и за истинную религию ислама (ад-дин). Едва ли можно было ожидать, чтобы он отдал жизнь за «знание». Свяшенная война должна была вестись под лозунгами, более элементарными, чем те, которые «знание» могло надеяться (или опасаться) породить. С другой стороны, назидательные трактаты, выставляя в качестве образца для следующих поколений вымышленные ранние обращения в ислам, предпринимали все усилия показать, что высшее знание и постижение тех, кто представлял мусульманскую сторону, были основой их непременного успеха. Весьма ясно этот аспект иллюстрируют знаменитые «Вопросы» Абдаллаха б. Салама. К массам, конечно, были обращены проповеди, хотя вызывает серьезные сомнения, становились ли популярным чтением те проповеди, которые были записаны и образовали довольно продуктивные ветвь литературы. Если представляется, что «знание» играло незначительную роль в проповеднической литературе, то это явилось результатом общего направления мусульманской проповеди. Она была ориентирована на иной мир, точнее, прочь от всеобъемлющего зла мира. Поэтому все ее рекомендации касающиеся этого мира, были негативными. Незачем было рекомендовать что-либо вроде «знания», у которого, кроме религиозных, было столь много позитивных мирских аспектов. Сказочная литература, напротив, была обращена к этому миру. Она отражала обычную жизнь с удивительной верностью, включая чаяния, желания и надежды простых людей. Так, в спокойном буржуазном мире «1001 ночи» знание вместе с адабом как часть подобающей жизни человека занимает постоянное место и воспринимается как нечто неотделимое от материального и духовного благополучия. Однако свидетельство народной литературы неубедительно. Мы должны опираться на постоянное внимание к «знанию» во всех областях интеллектуальной деятельности, которое не могло не получать сильного позитивного отклика со стороны масс. Можно добавить, что те, кто был неспособен ответить на ясный призыв своих духовных руководителей, едва ли могли внести какой-либо вклад в определение культурных ценностей и в отношение к ним. Более того, «знание» было самым обязательным из условий законного политического руководства («законного» в отличие от незаконной зачастую роли, которую присваивают себе на политической арене военные). Можно считать, что уважение к знанию, также как иногда ненависть или насмешки, обращенные к нему, разделяли все члены общины, даже стоявшие в самом низу социальной лестницы. Конечно, у нас нет никаких статистических данных или позитивных свидетельств, и мы вынуждены полагаться на гипотезу. Однако она представляется достаточно солидной, чтобы поддержать такую точку зрения; то, что основывается на интеллектуальных воззрениях мусульманской цивилизации, может представлять весь ислам. Остаеться ответить еще на один вопрось. Нельзя настаивать, что «знание» занимает какую-то особую позицию в мусульманской цивилизации, пока нет уверенности, что где-либо в сопоставимых мировых общественных структурах оно не занимало равнозначного или более высокого места. Едва ли нужно говорить, что сравнение различных цивилизаций – всегда крайне сомнительное и рискованное дело. При любых условиях возникает вопрос масса недоказуемых предположений. Когда же привлекаются такие общечеловеческие ценности, как знание, вариантов образуются так много и они настолько взаимозаменяемы, что сравнение и различение их представляеться неосуществимой задачей. Знание лежит в основе всяческого прогресса человеческого общества. Наше утверждение сводится к следующему: в исламе это обстоятельство нашло свое торжествующее воплощение с концентрацией внимания на самом слове «знание». Соответственно, следует отвергнуть как иррелевантные попытки определить значение «знания» в других цивилизациях, которые основываются лишь на базе действующих там интеллектуальных факторов. Сознание основополагающего характера знания означало и продолжает означать необычайно много для развития современной западной цивилизации. Наша цивилизация браком со знанием. Это также цивилизация невданного прежде разнообразия и охвата. Будущим поколениям предстоит определить – оказала ли концепция знания, как таковая, большое влияние на развитие современного мира, чем другие абстрактные идеи. В любом случае, представляется неуместным и непоказательным сопоставлять прошлое, не потревоженное еще чудодейственным развитием техники и коммуникаций, с настоящим, не имеющим равных в истории человечества. Греко-римская философия испытывала глубокое уважение к мышлению (phronein) как к величайшей из добродетелей, по утверждению Гераклита, к чистому знанию (theoria), этому сладчайшому и лучшему человеческому деянию, как считали Аристотель и его учитель, и к знанию (episteme) единственной добродетели, как провозглашали стоики. Но никто не стал бы утверждать что отношение к знанию в античности в целом, как и в любой конкретный период времени, вдохновляла и поддерживала такая целеустремленная привязанность, которая существовала в средневековом исламе. В смесе этики и знания этика для чувств и разума древних всегда сохраняла большую привлекательность и обладала над ними большой властью. Да и сфера религии никогда не сливались со знанием столь неразделимо, как это случилось в позднем исламе. Когда христианство сменило греко-римский мир и создало западные «средние века», концепция знания вновь заняла то привилегированное положение, которое принадлежало ей в древнем мире. Знание культивировали, мудрость лелеяли, но средневековые умы вовсе не тревожили никакие магические чары, исходящие из слова «знание», или вера в его достоинство, превосходящиее все религиозное и мирское. Один из философов недавного прошлого, видя знание в его западном обличье, подразделил его на Bildungswissen, Erlosungswissen и Herrschafswissen ( или Leistungswissen). Последний вид знания, попытка науки контролировать природу и общество, как представляется не был развит в античности и в средние века. Два других, Bildungswissen и Erlosungswissen хотя и были весьма сильны в прошлом как попытка улучшить отдельную личность, видимо мало применяются в нынешнее время, а Erlosungswissen – желание познать божественный порядок мира и достичь спасения – не обладает более, как говорят, никаким реалным смыслом. Если мы взглянем с этой точки зрения на ислам, то обнаружим, что метафизическое, этическое и научное знание, а сверх того –знание как мощное орудие общества, не всегда были представлены в равной мере, но они существовали и действовали. Они рассматривались как часть одного человеческо-божественного атрибута, называемого «знание», который управлял всеми человеческими и божиими деяниями. Знание не осозновалось ничем подобным народами христианской Европы в средние века, независимо от тех частных целей, которые преследовали их интеллектуальные усилия. Ислам можно сравнивать или противопоставлять цивилизациям классической древности или христианского Запада. Но вместе с тем это ветви одного дерева. В частности, корни «знания» у них общие. Можно было бы утверждать, что все заметные различия просто отражают более яркие или бледные тона одного и того же цвета. Подлинная проверка тезиса о том, что концепция знания достигла универсального торжества в исламе, должна привлечь для сравнения цивилизации Индии и Китая. Подобное сопоставление требует владения лингвистическим и историческим багажом, далеко превыщающим возможности автора данной книги. В самом деле, я чувствую, что только после изучения отношения к «знании» в Индии и Китае, проведенного по тем же линиям, что в этой книге, такое сопоставление было бы успешным. Насколько я знаю, это еще не было сделано. Однако мы не должны отказываться от этой задачи, и даже беглый взгляд несведущего обозревателя (или того, кто склонен к предвзятости, вызванной привязанностью лишь к собственным тезисам) может представлять известный интерес – хотя бы за неимением лучшего. Китайская философия пыталась дать формальное и абстрактное определение знания, хотя, как выясняется, лишь в крайне редких случаях. Так, до нас дошло высказывание одного китайского мыслителя о знании, что оно есть то, через посредство чего человек знает и знает уверенно, как через озарение. Знание есть нечто врожденное, но оно зависит также от свидетельства чувств. Конфуций далее заметил, что знание есть врожденная способность различать, обладает человек знанием или не обладает. Он также отметил момент, считавшийся весьма важным и мусульманскими авторитетами, а именно, что сочетание разума и знания является необходимым требованием и что отсутствие одного или другого создает ситуацию либо бесполезную, либо опасную. Однако в китайской, и особенно в неоконфуцианской мысли доминировали идеи неотделимости знания от дейстивия. С китайской точки зрения, действие, а не знание есть основной предмет забот личности и общества. Действие рассматривалось «как более важное, более достоверное, более доступное или более трудное, а следовательно, более привлекающее внимание». Иногда высказывалась и противоположная точка зрения. Автор трактата «О знании и действии» (III век) утверждал, что «жизнь ученести и обретение высшего понимания ценнее, чем жизнь действия и совершенство поведения». Это было явным исключением. Уже конфуцианское определение, упомянутое выше, не выделяет знание как особо значимое. Знание было в лучшем случае одним из важных компонентов, образующих человека и его мир. Правда, «ученость» была началом и концом всей китайской общественной деятельности, но как и знание всякое учение было направлено к действию. Со времен ал-Джахиза арабская литература постоянно утверждала, что национальной чертой китайцев было ремесленное мастерство: «В противоположность грекам китайцы занимаются только практической деятельностью. Это люди активной жизни и поэтому они не углубляются в мотивириовку сил, стоящих за их деятельностью». Упрощающее и, следовательно, искажающее, это заявление в какой-то мере подтверждается подчеркиванием в китайской философии роли действия как самого главного предмета человеческих забот. «Знание» неизбежно должно было стать предметом обсуждения в китайской цивилизации. Но оно не достигло в ней статуса основополагающей концепции или хотя бы статуса вдохновляющего лозунга с широким радиусом действия, несмотря на то что китайское общество отдавало дань учености и образованию. Совершенно иной оказывается ситуация в Индии. Действие меркнет где-то на заднем плане. Вперед выходит эпистемология в самой абстрактной своей форме, она-то и представляет собой постоянную заботу индийских мыслителей. Чтение из вторых рук, основанное на переводах, может привести к заблуждениям, но оно показывает отдельные точки соприкосновения с идеями, нашедшими выражение в исламе. Так, например, связь познающего, знания и объекта познания подвергается разностороннему обсуждению. Мы также обнаруживаем различие того, что полезно и что бесполезно, подобно богатству, или различение ложного и истинного знания и роли сомнения в этой связи. Однако индийская спекуляция еще больше углубляется в абстрактную разработку проблемы знания, чем мусульманские ученые, даже в более поздние времена и в восточной части мусульманского мира, где всегда возможно (и даже реально) было индийское влияние. Как следует из самой природы санскрита, эти спекуляции привлекали большое число терминов, наполненных специальным значением. Единого доминирующего термина не существовало. Это имеет для нас принципиальное значение, поскольку полностью исключает всякое индийское соперничество с арабским «ilm» как единым культурным термином. Независимо от того, сколь широко пронизывало «знание» индийскую цивилизацию, это не давало никакому термину свободы воли на интеллектуальной и общественной арене. В заключение можно задат вопрос: что означает для цивилизации или, шире, для истории человечества, когда «знанию» придают центральное значение? Едва ли на него можно удевлотворительно ответить, ползуясь критерием «хорошо» - «плохо». Для всякого данного общества «хорошо» то, что оно само признает таковым, и «плохо» то, что оно отвергает. Если бы две разные цивилизации придерживались одинаковых оценочных категорий, по основным для них предметам, они, вероятно, не были бы различными. А если оценочные суждения их различаются, то все, что думают друг о друге почтенные представители каждой цивилизации, основано на различных исходных точках и поэтому должно считаться весьма субъективным. Настойчивость по отношению к «знанию» несомненно сделала средневековую мусульманскую цивилизацию весьма продуктивной в смысле учености и науки, благодаря этому она внесла свой самый прочный вклад в историю человечества. «Знание» как ее центр также укрепило мусульманскую цивилизацию, оградило ее от всего,что не подпадало под представлению о приемлемом знании.
|
| |
|
|
